РАСКРЫТИЕ
ЦИКЛИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РОССИИ
Опубликовано в
книге:
Циклы политического развития: прогностический
потенциал (сборник статей). – М.: ИМЭМО РАН, 2010.С.54-72.
Подходы
к экспликации исторической цикличности
Цикличность
(от др.-греч. κύκλος, лат. cyclus – круг,
окружность) означает круговое движение, а в истории — изменения с
повторами. Об исторических циклах (циклической динамике) говорят, когда
наблюдаются два и более «повторов» одного периода истории некоторой
социальной целостности (города, провинции, общества, его экономики,
политического устройства, или доминирующего культурного стиля, либо
миросистемы, цивилизации и проч.) в последующих периодах.
Обычно
используются два основных подхода к экспликации этой повторяемости: через
выявление сходных фаз (тактов, состояний) и через фиксацию колебаний одной или
нескольких переменных (например, цен, показателей экономического роста,
величины населения и т.п.). Назовем первый подход фазовым (качественным), а второй — параметрическим (количественным).
Резонно оба подхода считать взаимодополнительными: как правило, качественное
своеобразие каждой фазы тесно связано с определенными количественными (или
квазиколичественными) значениями некоторых базовых переменных, в то же время,
подъемы и упадки каждой переменной всегда связаны с дополнительными
качественными характеристиками, которые зачастую нельзя измерить, но учитывать
необходимо.
Вполне
можно помыслить и промежуточный подход, связывающий два предыдущих. Качественное
своеобразие каждой фазы (такт в цикле), вообще говоря, можно определить через
набор признаков. Каждый признак можно эксплицировать как бинарную переменную
(со значениями 1 – присутствует некая черта и 0 – отсутствует). Есть также способы
превращения количественных переменных в бинарные, пусть и с потерей информации
(например, высокие значения, превосходящие некую критическую константу,
считаются 1, а низкие, меньшие другой константы, — 0). При таком подходе, назовем его конфигурационным, циклическую динамику
можно рассматривать и в терминах фаз (тактов) как конфигураций значений —
рядов 1 и 0, и в терминах переменных — паттернов смены 0→1 и 1→0
по каждому признаку.
Разумеется,
исторические циклы, в том числе, циклы и волны политического и экономического
развития – это вовсе не случайные отклонения от линейного развития
(вполне мифического), а порождения некоторых скрытых закономерностей, они же
тесно связаны с механизмами смены общественных структур, политических,
экономических и правовых институтов, технологических укладов. Главный
теоретический вопрос: какова природа этих закономерностей и механизмов?
Механизмы цикличности в количественном подходе
Количественный
подход — более точный и строгий, он естественным образом может быть
развит в той или иной версии математического моделирования, но в некотором
смысле представляет собой интеллектуальную ловушку. Дело в том, что в
объяснении колебания некоторой переменной весьма трудно помыслить что-нибудь
иное, кроме действия иных количественных переменных (факторов). Понимание
природы цикличности, таким образом, volens nolens заключается в подборе
этих факторов и установлении характера их взаимодействия. Содержательно и
технически эти вопросы неплохо рассмотрены в специальной литературе по
математическому моделированию причинных связей и по моделированию исторических
процессов — клиодинамике [Duncan 1975; Stinchcombe 1987; Pearl 2000; Турчин 2007;
Розов 2009]. Есть несколько базовых структурных возможностей для внутреннего
механизма циклической динамики при таком характере концептуализации:
·
контур положительной
обратной связи обусловливает подъем колеблющейся переменной на повышательной
фазе (эффект «лифта»), затем, вследствие каких-то накоплений,
значения некоторых ключевых факторов начинают падать, и тот же контур дает
понижательную фазу (эффект «колодца»);
·
для колеблющейся
переменной есть некие «естественные» ограничители, пределы
(«пол» и «потолок»), при достижении которых ее динамика
меняет направление;
·
в зависимости от
значений некоторых ключевых факторов или самой колеблющейся переменной
происходят переключения связей в самой структуре взаимодействия факторов (усиливающая
связь становится ослабляющей или наоборот), что приводит к замене
«разгоняющих» контуров положительных связей на
«тормозящие», «уравновешивающие» контуры отрицательных
обратных связей, но равновесие оказывается недолгим, и дальнейшие переключения
связей приводят к колебательному паттерну — циклической динамике.
Механизмы цикличности в фазовом подходе
В
данном способе экспликации циклической динамики гораздо больше концептуальной
свободы, но на столько же больше и неопределенности. Многое зависит теперь уже
от дальнейшей концептуализации: что понимается под фазой и что понимается под
переходом между фазами. Кроме того, фазы вовсе не обязательно должны составлять
правильную кольцевую структуру (А→Б→А→Б→…, или
А→Б→В→Г→А…), возможны дивергентные переходы от
одной фазы к альтернативным другим, конвергентные схождения и проч. Поиск
механизма для такого рода структур состоит в определении условий переходов от
одной фазы к другой, а также закономерностей, трендов, ведущих к появлению тех
или иных условий фазового перехода внутри каждой фазы. Представляются
необходимыми систематические исторические сравнения с применением классических
методов выявления причинных связей по Бэкону-Миллю, особенно, метода
единственного сходства для однотипных переходов и соединенного метода сходства
и различия для бифуркаций — дивергентных переходов [Розов 2009].
Потенциально
богатым эвристическим средством изучения природы циклов при фазовом подходе
является универсальная модель исторической динамики [Розов 2000; б/г]. По
меньшей мере, шесть типов исторических циклов разного характера и динамики
объясняются на основе данной модели (рис.1).
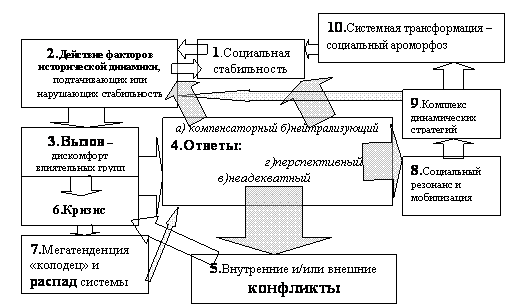
Рис.
1. Универсальная модель исторической динамики
В
контуре 1→2→3→4→1:
·
цикл типа
«регулярные пожары и пожаротушение», здесь компенсаторные ответы не
устраняют причины вызовов (существенных дискомфортов, меняющих поведение
влиятельных групп), поэтому вызовы повторяются; сюда относятся спорадические
аварии, бунты, забастовки, социальные волнения, с которым власть борется
преимущественно разовыми, запретительными, репрессивными мерами; дворцовые
перевороты, сменяющие верхушку, но оставляющие систему почти неизменной, также
попадают в эту категорию;
·
более долгий цикл типа
«накопление дисбалансов и пошаговое развитие», здесь на вызовы дают
нейтрализующие ответы, устраняющие их основные причины; как правило, такие
ответы имеют характер институциональных реформ, они ведут к постепенному
эволюционному повышению эффективности социальной системы, политического,
правового, административного, экономического, технологического и прочих
режимов; вместе с тем, полностью накопление дисбалансов, ведущих к новым
вызовам, никогда прекратить не удается, поэтому ритмы стабильности и
нейтрализующих эти дисбалансы реформ продолжается; примерами могут служить
медленные эволюционные изменения (за которые, в частности ратовал К.Поппер [1993])
современных демократических обществ.
В контуре
3→4→5→6→4→1→2→3 происходят:
·
циклы с жесткими
социально-политическими кризисами (чреватыми также внешним вмешательством,
войнами, потерей части периферийных территорий), но с сохранением государственности и целостности
социальной системы; в авторитарных режимах такие кризисы нередки в связи со
смертью правителя и борьбой кланов за власть; путчи, крупные перевороты с
массовым насилием, сменой государственного строя являются частью такой
циклической динамики (бурная история Франции конца XVIII – середины XX вв., смены режимов в
странах Латинской Америки).
В
контуре 3→4→5→6→7→4→1→2→3 происходят:
·
циклы разрушения
государственности, распада страны, становления новой государственности на новых
началах, с новыми элитами и новыми институтами; разделы, захваты и периоды восстановления Польши,
прибалтийских стран, Бессарабии-Молдавии, Украины, смены государственности в
России 1606-13, 1917-18, 1991 гг., смены династий в Китае и революция 1911-49
гг., современная история Конго (Заира), Афганистана, Ирака, Киргизии служат
примерами таких драматических циклов;
В
контуре 4→8→9→2→3→4 происходят
·
циклы принудительных
мобилизаций, которые не приводят к эффектам саморазвития и ароморфоза, но ведут
к стагнации и новым вызовам. «Грозненский»,
«Петровский» и «Сталинский» долгие циклы модернизации в
России [Вишневский 1997] образуют ритм такого типа, а также многочисленные
феномены «догоняющего развития» в периферийных и авторитарных
полупериферийных странах.
Наконец,
в контуре 4→8→9→10→1→2→3→4
происходят:
·
циклы перемежение
периодов особенно бурного всестороннего самоподдерживающегося роста (периоды
расцвета североитальянских городов, Голландии, Великобритании, США,
«европейское чудо Нового времени», «японское чудо»,
«немецкое чудо», «южнокорейское чудо» и т.д.) и
периодов некоторого торможения, спада и/или стабилизации, за которыми нередко
следует новый бурный подъем. Вероятно, существенной частью таких циклов
являются знаменитые кондратьевские волны и смены технологических укладов.
Механизмы
цикличности в конфигурационном подходе
Данный
подход к экспликации занимает промежуточное положение между потенциально
богатым, но крайне неопределенным фазовым подходом и более точным,
математизированным, но концептуально и структурно ограниченным количественным
подходом. Здесь очень многое зависит от правильности выбора состава признаков
(бинарных переменных), которым характеризуются разные фазы цикла. Нужны
наиболее существенные признаки, конфигурации которых и должны определять
действие механизма, порождающего цикличность. Положение облегчается тем, что
составом бинарных признаков гораздо легче манипулировать, чем аморфными
качествами периодов в фазовом подходе и составом численных переменных в
количественном подходе.
Как
же определить, какие признаки релевантны? Оптимальным методом представляется
теоретическое моделирование, т.е. построение таких абстрактных конструкций с
жесткими правилами переключений значений признаков в меняющихся фазах цикла,
которые дают результат (порожденные действием правил циклические
последовательности фаз, или тактов), более или менее схожий с наблюдаемым эмпирически.
Автономия и взаимосвязь сфер циклической динамики
Обратимся
к общим теоретическим вопросам. Как соотносятся циклы и волны экономического
развития с циклами и волнами социально-политического развития? Это совершенно
разные явления или различные формы одних и тех же фундаментальных ритмов
общественного развития?
Здесь
речь идет об относительно самостоятельных и, конечно же, тесно взаимосвязанных
сферах исторической динамики. В экономической сфере обычно выделяют кондратьевские
циклы (длинные волны), циклы Жюгляра и циклы Кузнеца. В политике наряду с
«естественными» циклами смены верховных правителей и поколений элит
в авторитарных обществах, «искусственными» электоральными циклами в
демократических обществах, говорят также о специфических циклах отдельных
стран: например, реформы и контрреформы по А.Янову в России[1],
колебания между праволиберальной и левой политикой в Великобритании, смена
интравертных и экстравертных периодов в истории США по Шлезингеру и проч.
Наряду с вышеуказанными, следует учитывать
также следующие сферы:
· экосоциальная динамика (население и его расселение по территориям, основные виды
продовольствия и цены на него, продовольственный потенциал и ресурсный баланс);
· геополитическая динамика (войны, союзы, величина и могущество армий, закупки и
производство вооружений, приращение и потери территорий, сепаратизм и борьба с
ним);
· геоэкономическая динамика (основной экспорт и импорт, мировые рынки и цены, движение
капиталов, иностранные инвестиции, внешние долги, положение в миросистемной
иерархии);
· культурная динамика (изменения в убеждениях, верованиях, идеологиях, картинах мира,
ценностно-нормативных системах, морали, эстетических вкусах и стилях, сдвиги и
смены траекторий в интеллектуальном, художественном творчестве и т.п.);
·
геокультурная
динамика (центры и зоны престижа, культурного производства,
диффузия идей и идеологий, привлекательность зарубежных образцов и импортных
благ, идейные влияния, пересекающие политические границы).
В
каждой сфере есть свои вековые тренды (долгие поступательные однонаправленные
изменения) и свои ритмы, выражающиеся в циклах и/или волнах. Соблазнительно, но
крайне сомнительно выделить какую-то одну сферу (например, по Марксу—
экономическую и по Шпенглеру — культурную, или по Ратцелю-Челлену и Ко
— геополитическую) в качестве базовой и определяющей динамику и
своеобразие всех остальных сфер. Наиболее адекватным и перспективным является
веберианский подход, признание автономии, «равноправия» отдельных
сфер и сложной динамической взаимосвязи
между ними. Именно этот подход реализован в блестящих исследованиях таких
корифеев современной исторической макросоциологии как Ч.Тилли, Р.Коллинз,
М.Манн, Т.Скочпол, Дж.Голдстоун, А.Стинчкомб и др. В этом смысле, «циклы
всякие нужны, циклы всякие важны». Уже не приходится уповать, что
раскрытие природы какой-то одной циклической динамики тут же объяснит и все
остальные циклы. Поэтому и вопрос о «приоритетности» отпадает сам
собой.
Как
содержательно представить динамическую взаимосвязь между экономическими и
социально-политическими циклами? Сфера экономики охватывает процессы
производства, распределения, обмена и потребления разного рода продуктов и
услуг. Как правило, циклы здесь выделяются посредством количественного подхода,
а основными колеблющимися переменными вступают уровни цен, валовой продукт,
темпы его роста, денежная масса, средняя заработная плата, величина инвестиций
и накоплений, кредитные ставки, биржевые курсы и т. п. Все
экономические процессы, внешними показателями которых являются вышеуказанные
переменные, осуществляются в определенной институциональной
среде, основу которой составляют административные, правовые и политические структуры. Эту среду можно
образно представить как сложный ландшафт с руслами, по которым и текут
экономические процессы производства, обмена, распределения и потребления. Здесь
есть свои периоды роста («паводки») и периоды упадка
(«засухи»), или же дисбалансы, когда «паводкам» в одних
местах сопутствуют «засухи» в других. Экономические факторы,
особенно, «засухи» (инфляция, безработица, депрессия и проч.) и
дисбалансы (разрывы в доходах, последующие социальные напряжения, волнения,
крупные миграции, бунты и проч.) являются вызовами для правящих элит, способных
менять институциональные структуры и правила. Характер и эффективность этих
изменений приводят либо усугублению экономического кризиса, либо к пошаговым
улучшениям, либо к новому бурному подъему, «взлету» (take off) экономики.
Представленная
схема каузальности «экономика→политика» вовсе не является
единственной. К изменениям в политических, административных и правовых
структурах ведут также накопления в самой политической сфере (рост
конфликтности в противостоящих кланах и партиях, поколенческая деградация элит
и проч.), геополитической динамике (слишком грозными и агрессивными становятся
соседи, усилившиеся провинции желают большей автономии или вовсе отделения), в
геоэкономической динамике (страны и компании ядра мир-экономики захватывают
монополию на внешнем рынке, резко ухудшив внешнеторговую конъюнктуру), в
экосоциальной, демографической динамике (от засаливания почв до старения
населения) и т.п. Существенные изменения в политике, администрировании,
правовой системе («смена ландшафта») всегда меняют и характер,
направленность экономических процессов («течения по новым руслам»).
Иными словами, здесь уже имеет место причинность по схеме
«политика→экономика».
Исторические
циклы и социальное прогнозирование
Что
можно и что невозможно прогнозировать с помощью циклов и волн? Возможно ли с
помощью циклов и волн прогнозировать экономические и политические кризисы,
войны и революции? Можно ли предсказать смену мирового политического и
экономического лидера?
Как
правило, под прогнозированием на основе известных по прошлой истории циклов
понимается экстраполяция, в лучшем случае, с поправками на некоторые
«ускорения» или «отклонения»[2]. Проводимый
в данной работе теоретический подход позволяет сходу отвергнуть экстраполяцию.
Циклы
в прошлом происходили, проявлялись таким-то образом только в силу того, что
действовал порождающий их скрытый механизм. В будущем этот механизм может
существенно измениться, либо вовсе перестать действовать. С этой точки зрения,
возможно полноценное научное прогнозирование (по К.Гемпелю), но только при
выполнении всех необходимых и достаточных методологических условий [Гемпель
2000; Коллинз 2000; Розов 2009].
В
терминах Гемпеля, нужны:
а) явная фиксация универсального закона, ранее
подкрепленного эмпирически,
б)
эмпирически полученные данные о начальных условиях.
На
этой основе только и становится возможным дедуцирование следствий (как класса
будущих явлений), причем, только в ограниченном горизонте прогнозирования.
В
наших же терминах, в роли такого универсального закона выступает тезис со
следующей логической структурой: некий порождающий
циклы механизм при таких-то условиях производит определенные явления циклической
динамики (например, переход от такта А к такту Б в течение такого-то времени);
если же имеются эмпирические свидетельства о том, что в данном обществе
сложился и действует этот механизм, а также свидетельства о наличии этих условий в данном обществе в
настоящее время, то следует ожидать наступления этих явлений в заданный
промежуток времени в будущем.
Фазовая
модель российских циклов
Представим,
как реализуются представленные общие подходы и положения при исследовании
природы известных циклов социально-политической динамики в истории России. При
всех раскачиваниях общая картина оказывается не хаотичной, но весьма
стереотипной, повторяющейся (см. также [Розов 2006; б/г].
Такт
1. «Успешная мобилизация» (ср. с «революцией служилого класса
по Р.Хелли [Hellie
2005]) Всегда имеет предел и обычно переходит к такту 2 –
«Стагнация».
Такт
2. «Стагнация». Иногда относительно стабильная, иногда турбулентная
с быстрой деградацией элит и режима,
обычно завершается тактом 3 «Кризис».
Такт
3. «Социально-политический кризис» — от крупных мятежей,
крестьянских войн и внешних вторжений до распада государственности. Для кризиса
характерны бифуркационные развилки, метания между попытками осуществить такты 4
или 5.
Такт
4. «Либерализация» (ср. с «реформами» по А.Янову [Янов
1997; Пантин, Лапкин 2007]). Иногда осуществляемая «сверху», иногда
стихийная «снизу», но, как правило, не приводящая к успеху. Либо
возвращает к такту 3 «Кризис», либо сразу ведет к такту 5
«Откат».
Такт
5. «Авторитарный откат» (ср. с «контрреформами по А.Янову).
Нередко выводит из кризиса и возвращает к стагнации, иногда приводит к успешной
мобилизации, но при определенных условиях может вести к углублению кризиса и
распаду.
Представим последовательность тактов посредством
модели фазовых переходов в параметрическом пространстве государственный успех / свобода
как защищенность и участие[3] (рис.2).
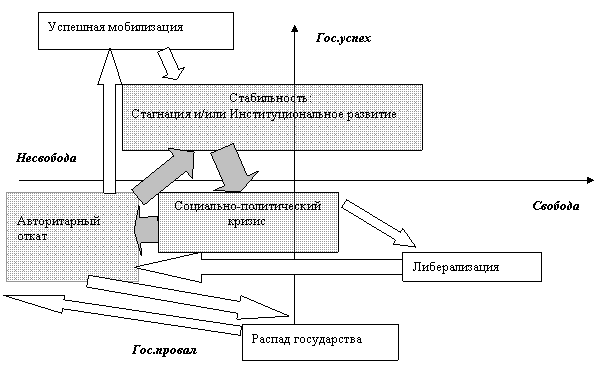
Рис.
2. Основные такты и межтактовые переходы в циклической динамике истории России.
Контур заштрихованных блоков и стрелок – кольцевая динамика наиболее частых переходов. Контур между
либерализацией, государственным распадом и успешной мобилизацией — маятниковая динамика.
Как видно на схеме, модель включает две основные
динамики: кольцевую (такты и
стрелки-переходы заштрихованы) и маятниковую
(выплески за пределы «кольца» — размашистые движения). Обратим
внимание на весьма наглядную особенность нашей феноменологической модели.
Правый верхний квадрант (сочетание государственного успеха и высокого уровня
свободы) остается неизменно пустым. В чем причина? На вершине могущества
российская государственность никаких поползновений к либерализации не
проявляет. Они появляются только при вызовах и кризисах, но не решают их
успешно и надежно. Периоды кризисов и неустойчивости в итоге колебаний приводят
к авторитарным откатам и новым периодам стагнации, иногда через взлет успешной
(во многом принудительной) мобилизации.
Модель «стратегии-следствия-ограничения»
Представим
упрощенную модель социального механизма, порождающего российские циклы. Она
сфокусирована на ресурсных стратегиях и контроле, они призваны объяснять
кольцевую динамику (Стагнация→Кризис → Авторитарный откат →
Стагнация).
Есть два актора, каждый со своим небольшим и
замкнутым набором стратегий
(направлений активности). Условно назовем первый актор Правителем, второй — Элитой.
Правитель в
каждый период времени осуществляет только одну из двух стратегий: устрашающее принуждение (со строгим
контролем за поведением Элиты, с санкциями, систематическими опалами, чистками
и проч.) и охранительство (снижение этого
контроля, требование от Элиты только лояльности с целью максимального продления
status quo).
Элита в каждый
период времени осуществляет либо одну из двух, либо обе стратегии: служение и присвоение (ресурсов), причем, доли активности каждой стратегии меняются
в зависимости от стратегий Правителя:
устрашающее принуждение со стороны Правителя обусловливает преимущественно
служение Элиты, а охранительство со стороны Правителя — преимущественное
присвоение Элитой ресурсов.
Рассмотрим
причины, по которым Правитель меняет свои стратегии. Каждая стратегия ведет к
своим следствиям. Устрашающее
принуждение по прошествии определенного периода (одного поколения?) ведет к
росту напряженности и пределу недовольства Элиты (связанного с
перенапряжением, истощением, усталостью от страхов, утерей лояльности и проч.,
здесь имеется прямое соответствие с фазой «Вызов» в универсальной
модели исторической динамики, рис.1). Достижение предела недовольства
переключает стратегию Правителя (прежнего или нового, поставленного Элитой,
— здесь неважно) с принуждения на охранительство[4].
Стратегия охранительства со стороны Правителя не прекращает служение со стороны
Элиты, но параллельно включает ее стратегию присвоения ресурсов, доля которой
растет и со временем (одно-два поколения?) почти полностью замещает последнюю.
Доминирование
стратегии Элиты по присвоению ресурсов ведет к пределу ресурсного дисбаланса [Розов 2009], что всегда ведет к социально-политическому кризису (контур
4→5→6 на рис.1). Выход
из него происходит только при одном условии: когда некая пара (прежняя или
новая) Правителя и Элиты согласованно принимают соответственные стратегии, а
именно Правитель начинает устрашающее принуждение, а Элита начинает служение,
что составляет совместный компенсаторный ответ (фазы 6→4→1 на
рис.1). Восстанавливается ресурсный баланс (государство и население получают
свою долю) и цикл начинается заново до следующего «предела
недовольства» Элиты. Таким образом, данная модель механизма кольцевой
динамики социально-политической истории России является частным случаем
универсальной модели исторической динамики, и реализует ее контур 1→2→3→4→5→6→4→1
(рис.1).
Представим схему
графически через фазы и переходы (рис.3). 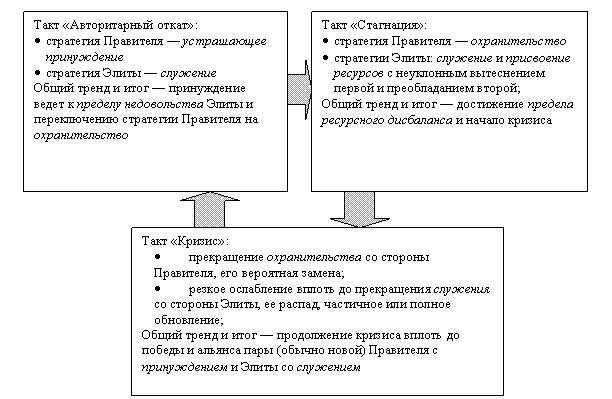
Рис.3. Модель
фазовых переходов для двух акторов с переключением их стратегий.
При переходе к
параметрической (квазиколичественной) модели содержание каждого такта
циклической динамики получает несколько иную интерпретацию (см. рис.4).
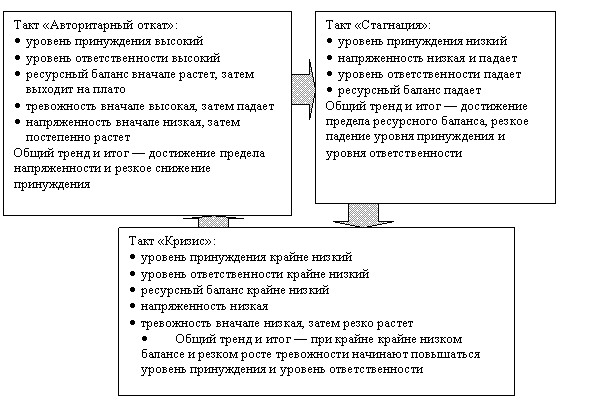
Рис.4. Состояния
переменных и тенденции из изменения в каждом такте кольцевой динамики.
Конфигурационный подход:
дискретная модель переключений
Выделим
некоторое шесть шагов, считая отдельным шагом начало и окончание каждого из
трех тактов кольцевой динамики (Кризис → Откат → Стагнация
→Кризис).
Все переменные
бинаризуются, то есть в них учитываются только высокие значения (1) и низкие
значения (0), причем в дальнейшем можно добавить и нейтральное значение.
С помощью таблиц
строится алгоритм принятия значений каждой переменной в каждом шаге в зависимости от сочетаний значений
переменных в промежуточном шаге. В таком представлении цикличность будет
означать логически принудительное повторение одних и тех же шагов (сочетаний
значений переменных) в одной и той же последовательности. Приведем простейший
пример такой экспликации (табл.1).
Таблица 1. Схема
переключения значений бинарных переменных от шага к шагу, где шагами являются
начала и окончания трех тактов кольцевой динамики. Здесь 1 означает весьма
высокое значение переменной, а 0 — крайне низкое.
|
|
Баланс |
Принуждение |
Ответственность |
Напряженность |
Тревожность |
|
Конец «Кризиса» |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Начало «Отката» |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Конец «Отката» |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Начало «Стагнации» |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Конец «Стагнации» |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Начало «Кризиса» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Конец «Кризиса» |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Начало нового «Отката» и т.д. |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
Очевидно,
что нули и единицы получаются в таблице не случайно, в зависимости от прежних
состояний. Учтем ранее постулированные взаимосвязи между переменными и
представим данные той же таблицы с указанием этих связей (рис.5).
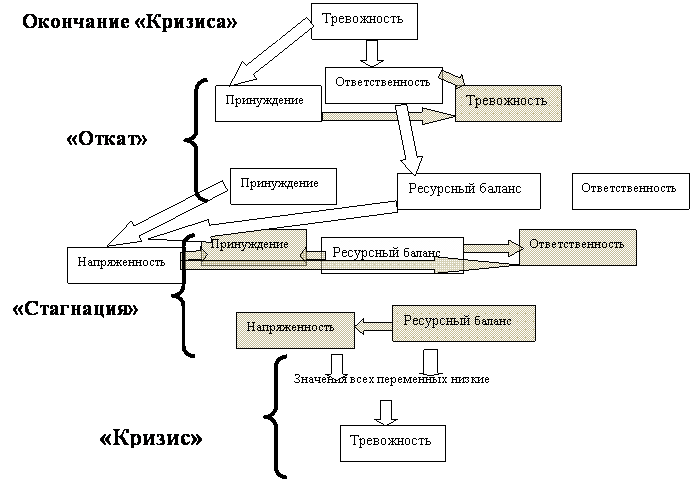
Рис.5. Схема переключения значений
бинарных переменных. Блоками обозначены только высокие значения бинарных
переменных на каждом шаге (единицы в таблице 1). Белые блоки означают
устойчивые значения переменных, сохраняющиеся на следующем шаге. Темные блоки
означают те переменные, значения которых упадут на следующем шаге
(соответственно, блоки исчезнут). Белые стрелки означают положительные связи:
высокое значение одной переменной на шаге n обусловливает высокое же значение другой переменной
на шаге n+1. Темные стрелки означают отрицательные связи:
высокое значение переменной на шаге n обусловливает
низкое значение другой переменной на шаге n+1.
Теперь
сопоставим результат нашего простейшего моделирования с изначальной
феноменологией. Для этого возьмем переменную R ресурсный
баланс, а вместо принуждения С
возьмем обратный параметр уровень свободы
от принуждения, рассмотрим соотношение динамики только этих переменных
(рис.6).
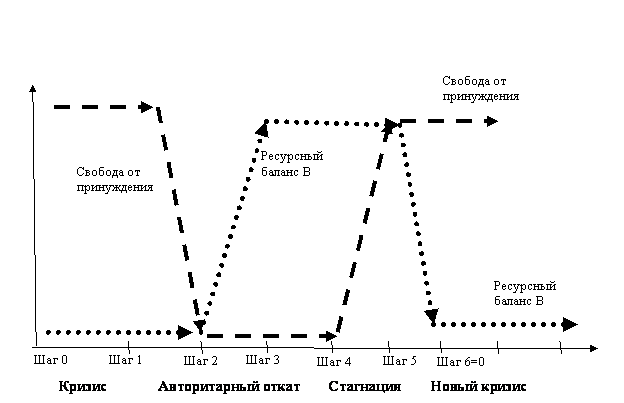
Рис. 6. Полученная средствами дискретного
моделирования динамика ресурсного баланса и свободы от принуждения. Очевидна
противофаза.
Теперь примем во
внимание, что ресурсный баланс был определен как достаточность ресурсов не
только у Элиты для достойной жизни, но также для Государства для поддержания
внутреннего порядка, выполнения социальных функций, поддержания внешней
безопасности, и для Народа для того, чтобы не голодал и не бунтовал. Таким
образом, ресурсный баланс вполне может считаться не только фактором, но и
показателем «Государственного
успеха» как одного из главных измерений феноменологии циклической
динамики.
Свободу от
принуждения можно сопоставить, опять
же грубо и со многими оговорками, с другим измерением — интегральным
показателем «Свобода как
защищенность личности и собственности».
Приведем график
феноменологии российских циклов (рис.7), в котором динамика
«Государственного успеха» наложена на динамику
«Свободы» (реформ-контрреформ по А.Янову, В.Лапкину и В.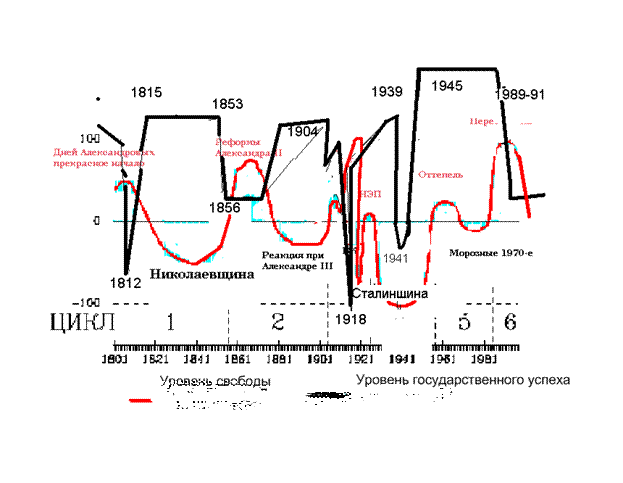 Пантину[5].
Пантину[5].
Рис.7. Динамика
уровня свободы и уровня государственного успеха в России за 200 лет. Очевидна
противофаза.
При всем
различии графиков, между ними есть важнейшее структурное сходство —
противофаза динамики переменных. Иными словами, как в феноменологии российских
циклов, так и в результате дискретного моделирования на основе принятых
постулатов о взаимосвязи переменных, получается наглядное соответствие:
ресурсный баланс и государственный успех колеблются в противофазе с уровнем
свободы.
Существенна
способность дискретной модели порождать на основе формальных правил циклы,
структурно схожие с исторической феноменологией. Разумеется, наша дискретная
модель — это своего рода логическая игрушка. Но она уже обладает важным
качеством. Когда такая простая модель построена, логика ее действия
определена, то ее уже можно изменять, усложнять, обогащать в самых разных
направлениях. В частности, от бинарных переменных можно перейти к тернарным
(высокое значение – среднее значение – низкое значение) и к более
дробным шкалам.
Параметрический
подход
и механизм циклов как взаимосвязь переменных
Если рассматривать
наши пять переменных не как бинарные (0,1), а как численные шкалы, то на основе
фиксированных выше закономерностей можно построить систему их динамических
связей — тренд-структуру (рис.8).
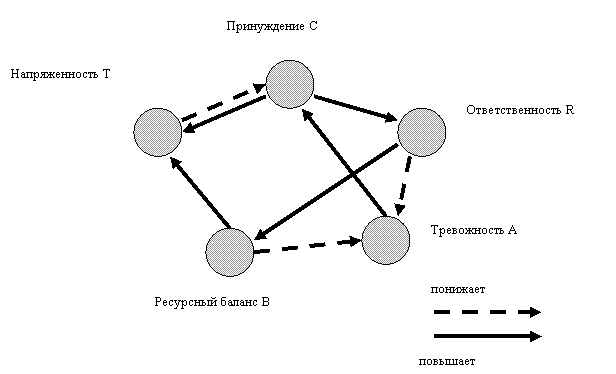
Рис.8. Тренд-структура
связей между основными переменными кольцевой динамики.
Уточнения,
обогащения формальных моделей, сопоставление их с эмпирическим материалом,
проверка соответствующих гипотез — большая самостоятельная работа для
отдельного исследования [детальнее см.: Розов б/г]. Пока же будем считать, что
каркас порождающего циклы механизма уже имеется. Как использовать модели такого
рода для осмысления современной ситуации в России и формирования актуальной
политической повестки дня?
История современной России:
продолжающаяся цикличность
История распада СССР и
современной России в контексте пяти тактов циклической динамики настолько
прозрачна, что не требует особых обоснований и комментариев:
· Брежневский «застой» — такт «Стагнация»;
· Попытки Андропова «закрутить гайки», антиалкогольная кампания 1985‑86‑гг. — фальшстарты «Авторитарного отката»;
· Первоначальная направленность М.С.Горбачева на «ускорение» — неудачная попытка «Мобилизации»;
· Перестройка — такт «Либерализация» с переходом к социально-экономическому и затем политическому «Кризису»;
· ГКЧП — снова фальшстарт, неудачная попытка разрешить «Кризис» через «Авторитарный откат»;
· Коллапс СССР — яркая манифестация такта «Государственный распад»;
· Реформы Е.Т.Гайдара — новый виток «Либерализации» как способа преодоления социально-экономического «Кризиса»,
· Малая гражданская война в столице в августе 1993 г. — минитакт «Социально-политический кризис»;
· Принятие суперпрезидентской Конституции в 1993 г., непростительная Первая Чеченская война, во многом изменившая ход политического развития, первое в РФ масштабное использование административного ресурса в президентских выборах 1996 г. — все это минитакты «Авторитарный откат» в турбулентном периоде 1990-х с его основным вектором «Либерализации»;
· Дефолт 1998 г., противостояние 1999 г. — экономический и последующий острый политический «Кризис», завершившийся победой одной из сторон — «Семьи», премьерством и затем президентством В.В.Путина;
· Вторая Чеченская война, установление группой В.В.Путина («питерцами») контроля над СМИ, арест М.Б.Ходорковского, изменения выборного законодательства, подавление оппозиции, гегемония партии власти в Думе и местных парламентах в 2000-2005 гг. — явный и крупный «Авторитарный откат».
· Примерно с 2005-2006 гг. наступление «Стагнации» с известными флуктуациями — слабыми, иногда виртуальными минитактами «Откатов», и фальшстартами «Либерализаций» и «Мобилизаций».
К чему приведет нынешняя стагнация?
Существенный
социально-экономический спад имел место в 2008-2009 гг., но кризиса
удалось избежать, поскольку накопленных финансовых ресурсов хватило до нового
повышения цен на нефть. Политический режим на некоторое время укрепился в
самодовольстве и стагнации. Внутренние процессы деградации и назревание
системного кризиса продолжаются, но вновь будут на время замаскированы
нефтедолларами.
Рано
говорить о том, что Россию кризис миновал. Следует ожидать новых аварий и
бедствий,[6]
прорыв Саяно-Шушенской ГЭС, пожар в Перми, взрывы в угольной шахте
"Распадская" (Кемеровская область) — это, вероятно, только
начало. Сложившаяся институциональная среда такова, что не только обусловливает
экономическую и технологическую стагнацию, но также неизбежно ведет к
нарастанию разного рода дисбалансов, напряжений и бедствий. Продолжится рост
дисфункций вследствие коррупции, действия контуров деградации. Рано или поздно
проявятся следствия систематического истощения финансовых ресурсов, утечки
капиталов. Уже сейчас в 2010 г. есть признаки снижения массового доверия к
пропаганде, резко усилились, стали явными протестные настроения против
произвола милиции и т. п. Более серьезные социально-политические
последствия будут иметь место, если
финансовых ресурсов для раздачи не хватит, бюджет будет испытывать хронические
трудности[7]. Все
это представит новые вызовы для правящей элиты (фаза 3 на рис.1).
Каков же будет ответ? Начиная
с 2003 г. демонстрировались способности преимущественно к компенсаторным
ответам раздаточного и репрессивного характера. Вероятно, властям поначалу
удастся ослабить, а затем и подавить массовые уличные протесты, поскольку
подготовка ведется весьма внушительная, как законодательная, так и сугубо
силовая. Вовсе необязательно диктатура в чистом виде будет построена, но таков
наиболее вероятный вектор изменений и первоначальные «успехи» на
этом пути вполне возможны. Ожидаемы даже всплески энтузиазма и массовой
поддержки «восстановления порядка».
В околокремлевских
экспертных кругах есть также идеи с помощью оставшихся финансовых ресурсов
сделать рывок «модернизации», поднять волну энтузиазма, построить
новые высокотехнологиченые производства. Оппозиционеры считают это попытками
отвлечь разговорами общественное мнение, либо даже получить моральную основу для новых волн
репрессий, поскольку появляется возможность назначать «врагов
модернизации» [8].
Итак, вероятный исход
ближайшего кризиса: подавление и/или замирение с сохранением факторов системной
деградации и новыми рецидивами малых кризисов. В модели универсальной динамики это означает хождение по контуру 1→2→3→4→1 (рис.1), а в
кольцевой модели — продолжение такта «Стагнация» с
минитактами типа «Авторитарный откаты»
(«подмораживанием»).
Перспективы нового
«Авторитарного отката»
Как
долго длится стагнация с минитактами кризисов и откатов? Здесь релевантны
следующие исторические аналогии:
· Поздняя Николаевщина 1833-1853 гг. — 20 лет,
· Реакция при Александре III и Николае II 1881-1905 гг. — 24 года,
· Позднесоветский застой 1964-1986 гг. — 22 года.
Если опираться на эти случаи, то 15-20 лет такта
«Стагнация» (начиная с 2006-2008 гг.) выглядят вполне
вероятными. Такие режимы
могут существовать довольно долго (наряду с вышеуказанными российскими
примерами — франкистская Испания, режимы Чаушеску в Румынии и Хонеккера в
ГДР, нынешние Куба и Северная Корея), нередко они становятся
геронтократическими, когда все ключевые позиции во власти заняты дряхлеющими
стариками.
Создание
династий и «преемничество» удаются далеко не всем. Такие режимы
плохо поддаются реформированию и развитию (потрясающее исключение — Китай
после Мао — требует особого анализа) и обычно разрушаются через
насильственные конфликты в форме переворотов и революций.
Существенно
продлить нынешнюю «Стагнацию» могли бы новый тяжелый мировой
финансово-экономический кризис при сохранении уровня цен на российский экспорт
сырья, череда острых социально-политических кризисов в Европе и США, что обычно
укрепляло позиции «русской власти» [Пантин и Лапкин 2006; 2007],
эскалация далеких войн с взлетом цен на нефть, спорадические «маленькие
победоносные войны» самой России, успех в массовом распространении
поддерживающей власть и режим идеологии. Пока не просматривается серьезных
факторов, которые привели бы к таким масштабным явлениям, тем более, к их
сочетанию.
По
мере делегитимации верховной власти и роста тревоги правящей группы вероятно
ужесточение практик принуждения — вполне ожидаемы попытки перехода к
такту«Авторитарный откат» — реакция, сдвиг к диктатуре, не
исключено, что с признаками тоталитаризма. При всем этом, продолжат действовать
факторы деградации — «внутреннее гниение при подморозке», системный
кризис по-прежнему будет назревать, поскольку этот режим показал полную
неспособность к реформам, решению общественных проблем, развитию. Поэтому смело
можно ожидать, что следующий спад мировой конъюнктуры даст для России более
глубокое падение и при худших условиях. В терминах циклической динамики это
означает, что либо «Авторитарный откат» станет лишь очередным
фальшстартом (подобно ГКЧП), либо будет весьма кратковременным и
«проскакивание» такта «Стагнация» вновь приведет к «Кризису»,
он уже с дискредитированными репрессивными практиками и институтами.
Как
может случиться глубокий кризис? Если же рост безработицы, иссякание накоплений
у населения и инфляция совпадут по времени с серией аварий (следствие
изношенности инфраструктуры) и геополитическими провалами (например, на
Кавказе), то следует ожидать многократного усиления волн протеста. В такой
ситуации привычные попытки их подавить приведут уже не к желанному
«подмораживанию», а к новым взрывам массового недовольства, социально-политическому кризису и распаду
«вертикали». При крайне негативном развитии событий возможны
эскалация насилия, смута и распад режима (деструктивный контур 4→5→6→7 на рис.1), последующая победа
популистских сил, вероятно, националистических (7→4→1).
Альтернативные
и более привлекательные сценарии, прежде всего, появление полиархии как
автономных центров силы, способных к мирному пакту, являются не инерционными и
могут быть реализованы только при определенном наборе условий [Пшеворский 2000;
Розов 2008], требуют серьезных ментальных и институциональных трансформаций,
суть и направленность которых нужно специально обсуждать [Розов 2010; б/г].
Здесь отметим только очевидное преимущество теоретического подхода над
экстраполяциями (как линейными, так и нелинейными).
Скрытые
механизмы, порождающие циклы (в том числе, российские), представленные в
теоретических моделях, указывают на важнейшие структурные элементы (группы,
институты, ресурсы, связи между ними), важнейшие переменные, конфигурации
которых служат условиями для того или иного характера протекания циклической
динамики. Чтобы изменить будущую циклическую динамику, необходимо
воздействовать на ее условия, которые всегда включают структурные элементы и
имеют переменные свойства. Поэтому для общественной практики, в том числе,
политической, гражданской, правовой, необходимы не только и не столько знания о
прежних циклах, сколько теоретические модели порождающих эти циклы механизмов.
Литература
Вишневский
Р.В. Модернизационные циклы в истории России.- Теория предвидения и будущее России. Материалы V Кондратьевских
чтений. М. 1997.
Гемпель К.
Функция общих законов в истории // Время мира, выпуск 1. Историческая
макросоциология в XX веке. Новосибирск, 2000.
Пантин
В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и
перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+, 2006.
Пантин В.И., Лапкин В.В. Политическая
модернизация России: Циклы, особенности, закономерности. М.: Русское слово,
2007.
Поппер
К. Нищета историцизма. М., 1993.
Пшеворский
А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе
и Латинской Америке. М. 2000.
Розов
Н.С. К интегральной модели исторической динамики // Время мира, выпуск 1,
Новосибирск, 2000. С.291-300.
Розов Н. С. Историческая
макросоциология: Методология и методы. Новосибирск: НГУ, 2009.
Розов Н. С. Императив изменения национального менталитета //
Полис, 2010, №4. С.7-21.
Скобов А. Страшная тайна олигархии //
Грани.Ру, 25.02.2010 Электронный ресурс:
http://grani.ru/Politics/Russia/m.175100.html.
Турчин П. В. Историческая динамика. На
пути к теоретической истории. М.: ЛКИ/УРСС. 2007.
Янов А.Л. Тень Грозного царя. Загадки русской
истории. М. 1997.
Duncan S.D. Introduction to Structural Equation
Models. N.Y., San Francisco, L.: Academic Press, 1975.
Hellie R. The Structure of
Russian Imperial History. History and
Theory. Studies in the Philosophy of History, 2005.vol. 44, № 4.
Pearl J. Causality: Models,
Reasoning, and Inference. Cambridge Univ. Press, 2000.
Stinchcombe A. Constructing Social Theories. The
University of Chicago Press. Chicago and London. 1987.